Человечество к другим планетам ведет природный инстинкт
 О будущем российской космонавтики мы беседуем с известным российским писателем, исследователем истории космонавтики, науки и научной фантастики А.И. Первушиным.
О будущем российской космонавтики мы беседуем с известным российским писателем, исследователем истории космонавтики, науки и научной фантастики А.И. Первушиным.
О развитии и перспективах любой страны можно судить по ее космическим программам. В них сосредоточен не только технологический потенциал, но и моральный дух нации. Запуск первого космического спутника, полет Юрия Гагарина вокруг Земли, первый выход в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова – все это было сопряжено в СССР с большими достижениями в области науки, культуры, образования. Скорее всего, человечество не ошиблось в своих приоритетах. На Дне открытых дверей в МГУ им. М.В. Ломоносова ректор Виктор Садовничий высказал точку зрения многих ученых: в ближайшие десять лет приоритетными задачами для всего мира будут изучение человеческого мозга, Мирового океана и освоение космоса. Россия старается не терять свое лидерство. Накоплены и ждут своего развития достижения в области космической медицины и биологии, намечены смелые перспективы исследования дальнего космоса и Марса в рамках совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс». Но есть и другие точки зрения, окрепшие в постсоветское время. Мол, космос – это блажь, пустая трата времени, и человеческий прогресс измеряется совсем другими параметрами.
Р.В. – Антон Иванович, что бы вы ответили тем скептикам, которые считают, что вложения в космонавтику – это расточительство, и надо заниматься решением насущных, земных проблем?
А.П. – Тут надо отвечать вопросом на вопрос: а земные проблемы в принципе решаемы? Давайте говорить прямо: главная проблема человечества в том, что по мере развития цивилизации растут и наши запросы, и наши требования, и наши претензии. Еще век назад народ прекрасно обходился без электроэнергии, автомобилей, централизованной канализации и т.п. Сегодня мы видим проблему в том, что еще не везде все это есть: надо к каждому поселку тянуть линии электропередачи, асфальтированные дороги, обустраивать там утилизацию отходов. Теперь вот добавился Интернет, и тоже возник ворох проблем с ним, а я прекрасно помню времена, когда никакого Интернета не было. И как же мы жили тогда?
Надо принять простую истину: проблемы будут всегда. Если решить базовые (дешевая еда, доступное жилье, качественная медицина, нормальный рабочий день), то тут же появятся новые (свобода распространения информации, высокоскоростная связь, хорошие дороги, экология). С другой стороны, космонавтика прямо или косвенно помогает решить если не все, то хотя бы часть проблем. Скажем, спутниковые системы глобального позиционирования помогают работе спасательных служб и органов правопорядка; материалы и конструкции, созданные для космических полетов, используются в медицине, противопожарном деле, при строительстве сейсмоустойчивых зданий. Но куда важнее косвенное влияние – создание и развитие собственной космонавтики требует от государства поддержания достаточно высокого уровня образования и технологической культуры. Согласитесь, что жить в стране с образованным населением и высокими технологиями куда приятнее, чем там, где ничего подобного нет. Поэтому, кстати, многие развитые государства, которые по тем или иным причинам не могут иметь национальную космонавтику – например, Швейцария и Люксембург, активно участвуют в международных космических программах инвестициями и специалистами.
Р.В. – В своих публицистических и художественных произведениях вы проводите эту мысль?
А.П. – В той или иной степени – да. Еще я указываю на то, что космонавтика связана с нашими природными инстинктами, нацеленными на расширение обитаемого пространства. Любой биологический вид стремится исследовать и захватить максимальную территорию, но только разум способен проникнуть в миры, где белковая жизнь невозможна. В этом контексте можно описать человечество как авангард земной биосферы, которая – на инстинктивном уровне, конечно, – стремится получить еще больше ресурсов и мест обитания, чтобы обеспечить свое бессмертие даже в те времена, когда Земля погибнет, а Солнце погаснет. Можно ли бороться с инстинктом? Можно, но это прямая дорога к вымиранию.
Р.В. – Жить воспоминаниями о достижениях советского времени – путь заведомо тупиковый. Хотелось бы знать, какие прорывные проекты в области освоения космоса существуют в наши дни. Интересно ли нам, к примеру, исследование Луны? И если да, то каковы перспективы и цели лунного проекта?
А.П. – К сожалению, в России до сих пор не выработана стратегия внеземной экспансии. Если вы проследите за тем, как менялись наши планы, то легко увидите, что они всегда следовали в кильватере космической политики США. Едва американцы начинают говорить о Марсе, то у нас тут же появляются марсианские проекты. Стоило им переключиться на Луну, как «Роскосмос» сразу сообщил о существовании лунной программы. Сейчас вот обсуждают международный проект окололунной посещаемой станции. Как вы думаете, что тут же заявил Дмитрий Олегович Рогозин, который сейчас возглавляет госкорпорацию «Роскосмос»? Правильно! Он высказал уверенность, что российские корабли «Федерация» будут летать к этой станции, хотя на самом деле их туда пока никто не приглашал.
Мне кажется, пришло время сформулировать собственную космическую стратегию, которая не зависит от изменчивых планов США. Есть ведь целые направления, где мы могли бы стать лидерами. Например, создание глобальной системы защиты Земли от сближающихся астероидов. В рамках ее развития можно организовать несколько пилотируемых экспедиций к астероидам, которые представляют опасность для нашей планеты, испытать при этом новую технику и зафиксировать за нашей страной очередные исторические приоритеты. Ту же систему реально использовать для утилизации космического мусора, проблему которого только сейчас начинают осознавать. Появится смысл и у проекта «Орбитальный космодром», и у перспективного транспортно-энергетического модуля с ядерной установкой, который сейчас разрабатывается. Что мы способны сделать на Луне такого, чего не могут конкуренты? Давайте наконец признаем: ничего! И займемся другими, не менее интересными, задачами.
Р.В. – А для чего мы создаем ракету-носитель тяжелого класса «Енисей»? Какие надежды мы с ней связываем?
А.П. – Носитель сверхтяжелого класса «Енисей» нужен только для одного – запуска грузов массой около 100 тонн на опорную околоземную орбиту. Соответственно, это может быть либо модуль орбитальной станции, либо большой корабль для полетов к Луне. Соответственно, пожелание нашего президента как можно быстрее сконструировать такую ракету очевидным образом связано с планами американцев строить окололунную станцию. Собственных проектов схожего масштаба у нас просто сегодня нет. Конечно, обретение носителя «Енисей» резко расширит возможности российской космонавтики, но, повторюсь, если нет собственной стратегии, то нет смысла и в расширении этих возможностей. Представьте: ракету построят, испытают, а применение ей не найдут. В таком случае она просто разделит судьбу советской ракеты «Энергия».
Р.В. – С каких космодромов эта ракета сможет стартовать? Или потребуется строить новую стартовую площадку?
А.П. – Скорее всего, ее будут запускать с нового космодрома «Восточный». И, конечно, там будет построен под нее новый стартовый комплекс. Россия постепенно уходит с «Байконура», и этот процесс обусловлен массой политических причин, которые не зависят от нашего желания.
Р.В. – Космический телескоп «Спектр-УФ» считается нашим ответом американскому Хабблу. Но судьба этой летающей обсерватории пока туманна. Как вы думаете, сможем ли мы все-таки заглянуть в дальний космос, используя отечественные разработки?
А.П. – Видите ли, одной из задач, которую поставило правительство перед российской космонавтикой, – выход на прибыльность, а фундаментальная наука всегда была убыточным предприятием. Поэтому я довольно скептически смотрю на перспективы развития отечественной орбитальной астрономии. Впрочем, она в любом случае будет развиваться – не у нас, так в других странах.
Р.В. – Антон Иванович, что вам известно о дальнейшей судьбе проекта «Буран»? Пилотируемый космический корабль может стать еще одним гарантом нашей безопасности и обеспечить ядерный паритет.
А.П. – «Буран» мертв. И вряд ли с учетом негативного опыта эксплуатации кораблей многоразового использования типа «Спейс Шаттл» этот проект будет возрожден. Для обеспечения ядерного паритета нам вполне хватает баллистических и крылатых ракет.
Р.В. – Верите ли вы в такие проекты, как космический туризм? Каковы здесь шансы у России?
А.П. – Уверен, что очень скоро мы увидим полеты туристов на космическую высоту и орбиту. У России есть все технические средства для того, чтобы присоединиться к этому бизнесу, но ситуация выглядит сложной. Сегодня «Роскосмос» способен предложить только полеты на кораблях «Союз», но это очень дорого, если сравнивать с предложениями американских компаний Virgin Galactic и Blue Origin. Вот если наши специалисты сумеют довести до ума проект орбитального отеля, тогда наша страна получит явное превосходство.
Р.В. – К Дню космонавтики в библиотеках Рязанской области будут вновь развернуты тематические выставки книг. Среди них каждый год я встречаю вашу книгу «Первые в космосе. Шаг в неизвестность», она популярна у читателей. Над чем сейчас работает писатель Антон Первушин? Какие миры предлагает исследовать своим читателям?
А.П. – На днях у меня выходят две книги: «Космическая мифология: от марсианских атлантов до лунного заговора» и «12 мифов о советской фантастике». Сейчас работаю над книгой «Наука о чужих», посвященной истории развития идеи инопланетян в мировой культуре, новой версией старой книги «Битва за звезды», рассказывающей о военной космонавтике, и документально-историческим исследованием «Падение красной звезды» о том, как появилась и развивалась советская фантастика. Лично мне все это очень интересно. Надеюсь, что будет интересно и моим читателям.
Р.В. – Спасибо вам за беседу!
Беседовал Димитрий Соколов
Фото с сайта Роскосмоса














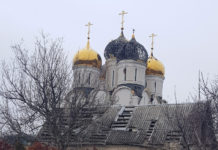
 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты