№64 (6368) от 29 августа 2025
В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина он длится уже 40 лет
– А научился я читать в четыре года. Кто меня читать научил из родителей, не помню. Но помню свои первые книжки: это были стихи Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Агнии Барто, Владимира Маяковского. Басни Крылова, сказы Бажова, Аркадия Гайдара я тоже ещё до школы прочитал. Запоминал много наизусть, любил рассказывать о прочитанном всем друзьям во дворе, а позднее в школе и обсуждать с ними прочитанное. Чем по сути и занимаюсь всю свою сознательную жизнь, – эти слова Александр Викторович проговорил, улыбаясь, но так, чтобы было понятно: в его шутке только доля шутки.
Предыстория с историей
Вчера он отмечал юбилей. Три четверти века – дата красивая. И мой герой нисколько не «забронзовел» – он прежний. Такой же эмоционально яркий и очень интересный собеседник. И наша беседа, поначалу приуроченная к дате в жизни и судьбе его, быстро переросла в необыкновенно увлекательное для меня путешествие в мир литературы. Которая и есть сама жизнь. Почему? Сами увидите. А пока поясню: у Александра Викторовича Сафронова я училась на литфаке, когда он не только читал курс истории русской литературы XVIII – первой половины XIX веков, но и был деканом факультета. Была это непростая пятилетка: поступили мы в педагогический институт, а заканчивали уже педуниверситет, на первом курсе изучали историю КПСС, а на втором сама эта партия с её направляющей и руководящей ролью стала историей.
Александр Викторович вспоминает эти годы как одни из оттепельных:
– Мы тогда сами составляли учебные планы и программы, без указаний сверху, повыкинули из них всё, что к литературе и русскому языку не относилось. Сейчас на факультете русской филологии и национальной культуры большинство преподавателей составляют как раз студенты, тогда, в девяностые годы, учившиеся в вузе. И это не случайность, а закономерный результат.
Об учителях и школе
– Сейчас готовится очередная, шестая на моей памяти, реформа образования. И проводить её будут те, кто стремится учителя превратить в чиновника, главная задача которого – сдать кучу отчётов, в том числе за потраченные на образование деньги. А ведь учитель – профессия синтетическая. Он учёный, администратор, психолог, сценарист, режиссёр и актёр – всё это он делает один, входя в класс. Школьное образование нужно не для того, чтобы ученик сдал ЕГЭ. И не для того, чтобы он поступил в колледж или вуз. Образование должно готовить человека к жизни вечной – мысль это не моя, а еще древних философов. Но в моём случае так: школьное образование должно иметь цель более высокую, чем сдать экзамены, даже самые трудные. Человек в жизни должен определиться. И вот таких учителей и нужно для школы готовить, я убеждён.
О том, что не даёт покоя
– Помнишь начало пушкинского романа «Евгений Онегин»?
– Конечно. А что там особенного?
– А вот это: «Мой дядя самых честных правил, // Когда не в шутку занемог, // Он уважать себя заставил// И лучше выдумать не мог…» Студенты и школьники всегда говорят: «Онегин едет к больному дяде». Но! «Уважать себя заставил» – это то же самое, что «дал дуба», «сыграл в ящик», «отбросил коньки». Онегин цинично радуется тому, что дядя умер и не придётся сидеть около больного. Так вот: сорок лет я говорю об этом будущим учителям литературы. Эти люди приходят работать в школы, учат детей, объясняют им в том числе и это. Но приходят в вуз их ученики и удивлёнными глазами на меня смотрят, когда я им об этом говорю, словно в первый раз слышат. Меня, да и не только меня, эта ситуация по-настоящему беспокоит. Получается, я работаю в пустоту? Куда исчезает запас знаний из голов абитуриентов в период после сдачи ЕГЭ и до 1 сентября? Сдали и забыли?
О лучших студентах и собственном стартапе
– Лучший студент для меня любой, если ему интересно читать книжки и рассказывать о прочитанном. Литфак и должен из таких студентов состоять. И для меня нет особой разницы, каким способом студенты записывают мои лекции. Гораздо важнее, как они потом отвечают на семинарах и на экзаменах. Не устаю повторять: вы читаете для того, чтобы иметь кусок хлеба в ближайшие тридцать лет, это будет вас кормить. Но такой мысли у большинства студентов нет. Может быть, это результат работы новой установки: учиться можно всю жизнь, не понравилась одна профессия – осваивай другую, иди на курсы, мастер-классы, к коучам, на лекции по саморазвитию? А в итоге что? Я, возможно, устарел, но в свое время шёл на литфак, понимая, что делаю выбор на всю жизнь.
– У вас в семье учителя? Почему вы решили стать педагогом?
– Отец – лётчик. Его сестра, моя тетя, Киевский университет закончила, учительницей была. Его младший брат тоже учительствовал. Но они никак не влияли на меня в выборе профессии.
– Что же повлияло?
– Инстинкт. С детства много читал и любил читать. Сразу после школы в институт не поступил, на заводе работал. В армии отслужил, там в голове и сложилась будущая дорога: пединститут и литфак. Ни разу потом не пожалел. А в институте я окончательно понял: свой путь нашёл.
Александр Викторович рассказал мне историю, вычитанную им у Андрея Битова о том, что в начале ХХ века в одном классе учились два великих поэта. В поисках истины первокурсник Сафронов перелопатил кучу литературы, журнальных публикаций, томов из библиотек, замучил расспросами преподавателей. Не было ответа – и всё. Через много лет судьба свела его, уже известного и опытного преподавателя, с автором загадки Андреем Битовым. И вот ему-то Александр Викторович свой вопрос и задал. Ответ, разумеется, получил: это была шутка. Но важнейшим оказалось для него то, что в процессе поиска почувствовал удовольствие. Читать тексты в разных источниках, сопоставлять, думать, разгадывать загадки литературные, литературоведческие, исторические стало для него смыслом на долгие годы. После этого он и стартанул в науку.
Об учебниках и жизни
– Как вы считаете, литература была и остаётся учебником жизни?
– Литература была, есть и будет учебником жизни. Почему? Потому что, в отличие от наук, которые изучают человека по частям, литература выдаёт знания о человеке в синтезе. Рисует человека и человеческие отношения в обществе в художественных образах, а они воздействуют на читателя комплексно. Главное, что литература даёт образ – Базарова, Обломова или того же Рахметова. Последний, к слову, совершенно вымышленная фигура, почти фантастическая, потому-то он так и нравился молодёжи!
Долгое время литература как род занятий была привилегией узкого слоя. Образованные люди писали для образованных людей. Остальные, хоть в русском, хоть во французском или английском обществе, слушали сказки и народные песни. Все изменилось, когда на рубеже XIX–XX веков появилось то, что называется массовой литературой. Она и написана коряво и часто откровенно плохо, но пользуется бешеной популярностью. Почему? Потому что рассчитана была на малообразованных читателей. Настя из пьесы «На дне» такую книжку читала, «Роковая любовь», там студента звали то ли Рауль, то ли Гастон, но страсти-то кипели роковые! Сегодня мы, кстати, находимся в похожей ситуации: массовая литература просто количеством забила литературу качественную. Это, с моей точки зрения, плохо. Понятно, что на такой литературе зарабатывают, но…
– А может быть, хорошо, что вообще ещё читают бумажные книги, а не смотрят только в экран смартфона?
– Скажу на опыте: то, что человек читает в смартфоне, он не запоминает надолго. Запоминается только то, что прочитано на бумаге. Почему это так работает, пусть объясняют нейробиологи и физиологи. Но факт остается фактом. А пример – наши занятия выразительным чтением со студентами. Те, кто учит по книге, тексты запоминают. А кто по гаджетам – нет. Троечки получают те, кто заучивает тексты по распечаткам. Выводы делайте сами.
– Современная русская литература – какая она?
– Сегодня серьёзная и массовая, развлекательная литература смешались: у серьёзных писателей серьёзно писать не получается. Отсюда у них в романах и мистика, и детективы, и приключения. На мой взгляд, на человека навалился переизбыток технологических изобретений, а он хочет чего-нибудь попроще! В школу, где учат на волшебников, в трущобы, где благородный герой с пистолетом может перестрелять, не перезаряжая его, тридцать злодеев, в космос, где звёздные войны. Настроение при этом одно: «Дайте мне то, чего в жизни нет, потому что я объелся изобретений и у меня всё есть. Вот только «Властелина колец» для полного счастья и не хватает».
Но и сегодня писатели, создавая какой-нибудь фантастический сюжет, пишут о нашем времени и обществе. Таков Виктор Пелевин, которого, кстати, называют летописцем современности, и Евгений Водолазкин, и, безусловно, Захар Прилепин. Читайте их – и обязательно найдёте созвучные вашим думам размышления. Это интересное занятие!
– Спасибо за интересный разговор!
Беседовала Людмила Трухина














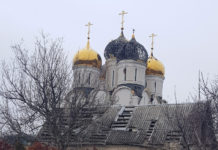
 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты