№38 (6142) от 26 мая 2023
Сегодня наш собеседник – Зинаида Ивановна Перегудова, известная исследовательница и сотрудница Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), доктор исторических наук. Она родилась в селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области, окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
В своё время она блестяще разоблачила опубликованное за рубежом и в России письмо-фальшивку о сотрудничестве И.В. Сталина с охранкой. Кроме того, отвечая на запросы государственных учреждений и отдельных лиц, она проводила экспертизу по весьма сложным и щепетильным вопросам, связанным с установлением подлинности документов III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Департамента полиции МВД, Штаба корпуса жандармов, царской семьи, политических партий и общественных организаций. Наш разговор с Зинаидой Ивановной о её работе, ставшей призванием.
– Зинаида Ивановна, вы – историк, почему выбрали работу в архиве?
– ГАРФ – моё единственное место работы, которому я посвятила 62 года. После окончания Московского государственного университета я получила диплом, в котором было написано: «историк, преподаватель средней школы», но судьба распорядилась так, что я стала младшим научным сотрудником Центрального государственного исторического архива СССР в Москве. Прошла все этапы работы от младшего научного сотрудника до руководителя отдела фондов по истории революционного движения ХIХ – начала ХХ века. Для кого-то эта работа покажется очень скучной. А я считаю наш архив самым интересным архивом страны. И даже проработав много лет, утром я летела туда как на крыльях. Ведь за каждым документом стоят человеческие судьбы, события, порой изменившие ход истории целого государства. Поэтому сотрудники архивов зачастую являются последней инстанцией, способной отличить фальшивку и доказательно представить истинную суть вопроса. И сейчас, когда некоторые историки и политологи пытаются сфальсифицировать события, исторические факты, сотрудники архивов, используя документальные источники, стоят на страже истины.
Мне повезло ещё и в том плане, что, интересуясь более всего XIX веком, попала в архив, где хранятся документы этого периода: Верховный Уголовный суд и Следственная комиссия по делу декабристов, Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, пришедший ему на смену Департамент полиции МВД, Штаб Отдельного корпуса жандармов, различные следственные комиссии, т.е. вся политическая история России сосредоточена в этом архиве. Все фонды невозможно перечислить. Здесь же огромный интереснейший комплекс личных фондов общественных и государственных деятелей России. А ещё хранится большой комплекс документов семьи Романовых: императоры, начиная с Александра I и кончая Николаем II, русские императрицы, великие князья и княгини, великие княжны, князья императорской крови.
Уже три года, как я оставила работу, но связи с архивом не теряю – являюсь членом ученого совета, занимаюсь рецензированием документов, провожу консультации.
– Ваши книги «Политический сыск России. 1880–1917 год» и ряд других помогли многим исследователям разобраться в делах давно минувших дней…
– Я в течение трех лет писала эту книгу, которую защитила в качестве докторской диссертации. Потом многие наши исследователи приходили и благодарили меня за эту работу, так как она им очень помогла разобраться во всех сложностях этого учреждения и в поиске необходимых документов. Структура секретной полиции была очень сложной. Для себя я составила список моих опубликованных работ: получилось около 230 наименований статей, заметок, публикаций, книг. Ряд статей был опубликован в научных журналах, сборниках, альманахах, книгах. Последние работы, в которых принимала участие, – «Дневники императора Николая II за 1894–1918 гг.», вышедшие в двух томах, трех книгах. Первый том вышел в 2011 году, последний – в 2013-м.
– Зинаида Ивановна, при проведении справочной работы сотрудники архива также готовили ответы на письма, приходившие в архив как от учреждений, так и от частных лиц. Благодаря добросовестной работе с документами сотрудниками архива были «очищены» имена многих людей, так?
– Совершенно верно. Каждый получаемый запрос мы в первую очередь проверяли по двум картотекам на секретных сотрудников: картотеке Департамента полиции, созданной её чиновниками, и картотеке секретных сотрудников, которая была создана в 20–40-е годы по материалам и нашего архива, и по информации из областных архивов. Изучая эти данные, я пришла к выводу, что многие лица внесены в эту картотеку безосновательно. Это были священники, напутствующие лиц, приговорённых к смертной казни, врачи, констатировавшие смерть. Но самое страшное было то, что в эту картотеку были включены лица, не имевшие никакого отношения к полиции, по ошибке архивистов, не знавших и не понявших терминологию жандармской переписки. Мы старались исправить эти страшные ошибки.
– Ваши аргументированные публикации дали обоснованный ответ на вопрос о сотрудничестве Сталина с охранкой…
– У меня всегда шли споры по этому вопросу с моими коллегами. Дело в том, что один из наших знакомых рассказал, что несколько лет назад в спецхране он видел журнал «Лайф», в котором был опубликован документ, который якобы свидетельствовал о сотрудничестве Сталина с секретной полицией. И вот этот документ оказался опубликован в газете «Московская правда». Был скандал. Нам удалось достать журнал «Лайф» и скопировать этот документ. Сразу бросался в глаза устаревший штамп, входящий и исходящий номера, написанные одной рукой. Кроме того, Сталин к этому времени – июль 1913 – не был известен как Сталин. В письме написано Иосиф Виссарионович, но в официальной переписке могло быть написано только Иосиф Висарионов Джугашвили. Подпись под письмом была явно подделана – доказала почерковедческая экспертиза. В итоге я обнаружила в этом документе 13 или 14 неточностей. Мне удалось доказать, что фальшивку изобрёл некто Руссиянов, который был последним начальником енисейского розыскного пункта, под наблюдением которого был Сталин.
– Какими изысканиями вы занимались в последнее время?
– Меня много лет волновали вопросы, связанные с царской семьёй. Это перевозка Николая II и его семьи из Тобольска в Екатеринбург. Сохранились телеграммы, которыми обменивались Москва, Кремль и Екатеринбург, текст телеграфных переговоров. Кроме того, остались воспоминания участников расстрела. Свердлов направил некого В.В. Яковлева в Тобольск, чтобы перевезти царскую семью в Екатеринбург, а оттуда в Москву и предать суду. Это была позиция Ленина. Троцкий тоже мечтал об этом. И надо признать, что с пропагандистской точки зрения суд был намного выигрышнее бессудного расстрела. Приехав в Тобольск, Яковлев столкнулся с противодействием местных властей. Екатеринбуржцы откровенно игнорировали все требования Ленина и Свердлова, делая вид, что подчиняются указаниям из Кремля. Московское правительство в реальности не контролировало действия местных властей и часто задним числом одобряло их действия, чтобы сохранить видимость наличия «вертикали власти». Это была такая игра. Местные власти вынудили Яковлева уехать, не закончив своих обязательств. Сохранилась записка, подписанная Яковлевым, но написанная другой рукой, в которой он сообщал, что свои полномочия он передаёт местным товарищам. Решение о расстреле они приняли за три дня до его исполнения. После этого написали в Москву, что суд был невозможен в связи с наступлением белых. Но при этом сами успели выехать в Москву и привезли туда материалы царской семьи, в том числе дневники Николая II.
Глеб Винокуров












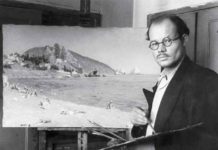
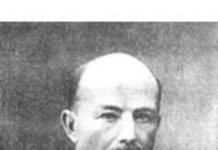

 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты