№12 (6116) от 17 февраля 2023
Ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Караев – о войне и мире
 С тех пор, как последний солдат в составе ограниченного контингента советских войск покинул землю Афганистана, прошло уже 34 года. Военную службу на территории ДРА проходили более 620 тысяч советских граждан. Общая численность погибших с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года составила более 15 тысяч человек, в числе которых 137 рязанцев.
С тех пор, как последний солдат в составе ограниченного контингента советских войск покинул землю Афганистана, прошло уже 34 года. Военную службу на территории ДРА проходили более 620 тысяч советских граждан. Общая численность погибших с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года составила более 15 тысяч человек, в числе которых 137 рязанцев.
Проходившему в Афганистане срочную службу Сергею Караеву удалось вернуться живым. Ныне он возглавляет региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана и помогает своим боевым товарищам в социальной и медицинской реабилитации в рамках уставной деятельности ветеранской организации. Прошлое вспоминает с неохотой, но считает, что и забывать нельзя.
– Сергей, вы служили в Афганистане до весны 1988 года. В этот период движение ограниченного контингента советских войск в сторону нашей границы уже началось?
С.К. – Я входил в состав 173-го отряда специального назначения ГРУ ГША, прикрепленного к 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, что дислоцировалась в провинции Кандагар. Наше подразделение должно было обеспечить выход всей бригады, проходя во главе колонны через подготовленные к нашему выводу укрепрайоны. Душманы, как ни радовались тому, что мы должны уйти, тем не менее готовились устроить нам «теплые проводы».
Полученные разведданные подтвердили наличие достаточно больших мер по сопротивлению выводу войск. Надо отдать должное нашему командованию, поскольку ему на тот момент удалось достичь компромисса, и колонна прошла практически без потерь.
Нас тренировали на движение в колоннах определенным порядком с учетом того, чтобы в случае нападения мы смогли получить наименьший ущерб.
– Ну а душманы на это спокойно смотрели?
С.К. – Было несколько небольших стычек скорее эмоционального плана, когда некоторые семьи пытались вести огонь из стрелкового оружия, но они были тут же подавлены. Больших боестолкновений на маршруте не происходило.
– Из двухлетнего периода срочной службы вы год провели в учебке. Почему так много, ведь обычно в то время служба в учебном центре занимала не более полугода?
С.К. – Наш учебный полк в/ч 71201 базировался в городе Чирчик под Ташкентом. Я прошел очень хорошую школу. Сержантский состав был подготовленный. Половина из них уже имели боевой опыт в Афганистане. Это, наверное, и явилась одним из условий, которое позволило мне получить звание сержанта и выжить на войне.
В учебке нас готовили к стрельбе в сложных условиях. Первичный курс я проходил по двум специальностям: оператор-наводчик БМП-2 и разведчик-пулеметчик. Предпочтение отдавалось операторам-наводчикам, потому что броня всегда являлась мощным аргументом в боевых операциях: появление этого транспортного средства вело к перелому в ходе боя.
– Что приходилось делать в реальной боевой обстановке?
С.К. – Нас усиленно натаскивали, чтобы мы умели стрелять из любых положений, но главным качеством была выносливость. Для спецназа характерно то, что в охоте за караванами наши передвижения происходили, как правило, ночью. Были и молниеносные операции – налеты в места базирования бандформирований. Также мы принимали участие и в общевойсковых операциях, стояли в резерве, а в случае боестолкновения оперативно вмешивались, поддерживали пехоту.
Основная же наша деятельность – охота за караванами. Со стороны Пакистана в Афганистан шел большой поток оружия и наркотиков, и наше подразделение этому успешно противостояло. В октябре 1987 года в одном из боев я получил тяжелое ранение и на несколько месяцев покинул место службы, чтобы мне могли сделать несколько операций в Москве, в военном госпитале Бурденко. В феврале 1988 года вновь вернулся к своим сослуживцам.
– Если оглянуться назад, вспомнить прошлое, что сейчас хочется проанализировать?
С.К. – Каждая война имеет свои особенности. Так как я служил в конце афганской кампании, могу сказать, что тогда большая часть наших действий была тщательно регламентирована. Мы уже научились дерзко воевать. А на начальной стадии задачи решались мобильными подразделениями, где основной состав был офицерский, а это высокая дисциплина и слаженность. Ближе к окончанию боевых действий командование привлекало уже повоевавших офицеров, умеющих выстраивать отношения с опытными сержантами, которые в случае наступления форс-мажора могли принять командование группой на себя и научить молодых бойцов, как надо себя вести в той или иной боевой обстановке.
Иногда мы были вынуждены сопровождать колонны с автотранспортом. Когда группа моджахедов начинала проявлять излишнюю активность, для сопровождения колон и подразделений придавали спецназ. Был определен специальный порядок передвижения автомобилей. Строго соблюдался ранжир. Я знаю офицеров, которые в дальнейшем по этой теме даже защитили дипломы в Академии имени Фрунзе.
– О войне поговорили, теперь поговорим о мире. Сейчас вы возглавляете региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана. Чем вообще занимается организация и что сделано в последнее время?
С.К. – Я один из самых молодых ветеранов-афганцев. С момента завершения боевых действий прошло уже много лет. Количество активных членов у нас не такое уж высокое, костяк – порядка 50 человек. Мы пытаемся ветеранов консолидировать: памятные даты отмечаем вместе, собираемся у памятника на площади Маргелова, возлагаем цветы, вспоминаем однополчан.
Многих в силу возраста трудно привлекать к более активному участию в общественных мероприятиях, но мы стараемся с ними взаимодействовать и всячески поддерживать. После пандемии возобновили программу «Десант лекторов» в школах, проводим открытые уроки по специально разработанной нами методике и сейчас плотно работаем с подрастающим поколением.
– Сроки призыва молодежи в армию теперь несколько увеличены и, вероятнее всего, уроки допризывной подготовки могут появиться не только в школах, но и в колледжах. Участники боевых действий в Афганистане готовы поделиться своим опытом с молодежью?
С.К. – На афганцев всегда можно рассчитывать. Если позволит состояние здоровья, ветераны боевых действий в Афганистане могут поработать и военруками в учебных заведениях – мы готовы делиться опытом. Можем помочь разобраться в вопросах тактики боевых действий. Нас даже приглашали в училище ВДВ, где мы проводили беседу с курсантами.











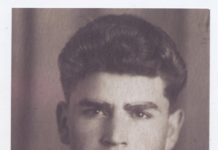


 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты