№92 (6196) от 01 декабря 2023
Как журналисты меняют жизнь. Беседы с Владимиром Панковым
Обком партии не хотел отпускать в Москву талантливого редактора, но Владимир Панков уже дал согласие коллегам из «Советской России» и в 1984 году покинул «Рязанский комсомолец». Хотелось другого масштаба и других, широких просторов.
– Владимир Александрович, говорят, что протекцию в федеральное издание – орган ЦК КПСС вам составил известный журналист «Комсомольской правды» Василий Песков.
В.П. – Василий Михайлович действительно мне помог, но несколько иначе. К «Советской России» я давно присматривался, посылал туда материалы и однажды получил приглашение стать собственным корреспондентом по Кузбассу. Честно говоря, в угольный край мне отправляться не хотелось, всегда любил природу, леса и, воспользовавшись давней дружбой, попросил Пескова похлопотать за меня перед главным редактором. Так, вместо Кузбасса я отправился осваивать просторы Карелии и Мурманского Заполярья.
Но и в Карелии не забывал о родных местах. О Мещёре, по которой мы путешествовали с любителем дальних странствий Василием Михайловичем Песковым. Он был моим хорошим другом. Судьба свела нас в Рязани, когда обком попросил меня сопровождать журналиста центральной прессы в его поездке по мещёрским лесам. Путешествовали мы больше трех недель – общались с лесниками, сельскими чудаками, гостили в затерянных деревеньках. Многое из того, что увидел, потом вошло в книгу. Назвал её «Иду Мещёрой» (кстати, название это придумал Песков).
– Мне тоже посчастливилось ездить с Василием Михайловичем в командировки и наблюдать за его работой. Он к каждому собеседнику мог подобрать ключик, хотя никогда не старался прикинуться «своим парнем».
В.П. – Он многому меня научил. Прежде всего – умению работать с фактами и фактурой. Человек не висит в воздухе, его окружают любимые предметы, друзья. Он создаёт вокруг себя особое поле. Надо только почувствовать его и передать в материале, не забывая о важных мелочах, которые связаны с героем твоей будущей публикации. В Пескове был талант показывать мир людей. Настоящий, непридуманный. Со своей историей и бытовыми «вкусными» подробностями. Чего, кстати, очень не хватает современной журналистике. Именно это мне нравилось в Пескове и нас сближало. Но при этом, не скрою, мы с ним иногда сильно спорили. Его знаменитый очерк об Агафье Лыковой мне показался не совсем удачным именно из-за пристального внимания к бытовым мелочам, которые в этом деликатном случае (ведь речь шла о духовном, глубоко религиозном феномене) можно было и отсеять – они, на мой взгляд, заслоняли суть старообрядчества, вернее, подвиг отшельничества этих людей. Но у него были свои возражения, тоже убедительные.
Тексты Василия Пескова – это, конечно, классика русской журналистики, в основе которой всегда было желание помочь людям. Что, кстати, Василий Михайлович и делал уже за рамками собственных публикаций – будоражил «инстанции», находил энтузиастов, да и просто помогал деньгами. Из своего кармана. И для меня это был хороший урок на всю жизнь – пиши, но и действуй. Не бросай героев своих публикаций и не считай написанное уже достаточным для того, чтобы на другой день всё забыть и перестать жить описанной тобой же проблемой. Если переиначить Экзюпери, мы в ответе за тех, о ком написали. Как это сделать? Продолжать тему, пользоваться «своим служебным положением», чтобы открывать двери кабинетов. Находить единомышленников и писать о результатах. Не тумаки раздавать направо и налево, не кричать, что там и здесь плохо, а предлагать альтернативу и обязательно помогать решению проблем. Потому что у прессы и ТВ есть власть, как бы ни пытались сейчас доказывать обратное. Просто многие современные журналисты от этой власти добровольно отказались. Им так спокойнее…
– Но теперь многие молодые корреспонденты говорят, что им за переписку с инстанциями и походы по кабинетам не платят…
В.П. – Но ведь и нам не платили. Это уже дело совести и понимания сути выбранной профессии журналиста. Хорош ли врач, не долечивший больного и махнувший на него рукой? Журналистика ведь тоже врачует, а не только «кормит» фактами. Тем более что с информацией как таковой у нас сегодня нет проблем. Её явный переизбыток. А вот результатов от наших писаний что-то не очень много.
В связи с этим вспоминаю некоторые свои командировки (будучи, так сказать, редакционным начальником в Рязани и в Москве, я никогда не переставал быть журналистом, писать). Так вот, уже достаточно лет назад в Окском заповеднике создали журавлиный питомник, теперь уже на всю страну знаменитый (там и наш Президент в своё время побывал). Сделали изгородь, вольеры, завезли редкие виды журавлей. И столкнулись с проблемой – для яиц такого размера не выпускались инкубаторы. Можно было бы сообщить факт и на этом успокоиться. Есть, в конце концов, министерства, чиновники, они за это деньги получают. Но я же понимал, что это может длиться годами. Начал пробивать заказ на предприятиях. Никто из директоров не хотел за него браться. Один вроде бы решился, но потом раздумал. И тут мне сильно помог собкор «Правды» Володя Швецов – его звонок окончательно убедил директора. Инкубатор сделали, и питомник заработал как надо.
«Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия». Это говорил уже упоминавшийся Антуан Сент-Экзюпери, и мне его позиция близка. Если ты напишешь и на этом успокоишься, то в чем ценность твоего труда? В констатации проблемы? В том, что ты оповестил публику и выбросил это из головы? Нет, этого для меня всегда было мало…
– Интересно, что было бы с грандиозным архитектурным ансамблем Кижи, если бы «Советская Россия» ограничилась только информированием читателей?
В.П. – В Кижах начал разваливаться уникальный деревянный собор. И был предложен план «спасения»: создать новодел, что гораздо проще и дешевле, нежели заниматься кропотливой реставрацией каждого брёвнышка. Но именно на этом настаивала другая группа специалистов. Оба лагеря старались доказать свою правоту. Мы с одним известным архитектором решили Кижи спасать, выступили категорически против новодела. Стали собирать единомышленников, беспокоить местные власти, столичных и зарубежных экспертов. Это была долгая битва. В том числе с карельским обкомом партии, который, признаюсь, недолюбливал меня за активность. Они пытались найти зацепки, чтобы пожаловаться в Москву. Звонили руководству. К счастью, у нас в «Советской России» был хороший редактор. Он говорил: «А в чем дело? Мы орган ЦК партии и наша задача в том, чтобы помогать людям и искать приемлемые варианты решения проблем». И на том конце провода сразу сникали. В общем, победила наша точка зрения – реставрировать собор от фундамента до маковки, стараясь сохранить каждое историческое звено.
– Одной только силы печатного слова было мало. Приходилось воздействовать на чиновников и другими средствами?
В.П. – Вот лишь один пример из собственной практики. В начале 90-х годов я поехал в командировку на Валаам, предвкушая встречу с красотами острова. А увидел разруху и запустение: полуразрушенная церковь, грязь, инвалиды войны в пансионате выглядели как оборванцы. Монашеские скиты заброшены, лопухи в человеческий рост. Фруктовый сад, где когда-то монахи выращивали дыни и арбузы, напоминал непролазные джунгли. Я сравнил увиденное с фотографиями в старом финском альбоме и ужаснулся. Домой приехал расстроенный и начал названивать и писать в Мичуринский институт – помогите спасти уникальный монастырский сад. Но там отмахнулись – не до Валаама сейчас. Ну и все, зацепило уже конкретно. Написал в обком партии Карелии, чтобы на расчистку сада направили хотя бы студентов. Потом мы уже и профессиональных ботаников подтянули, не дали саду совсем сгинуть. Но пришла другая напасть – на Валааме задумали развивать туризм, причем самыми радикальными методами: сделать аэродромную площадку, канатную дорогу. Мы за голову схватились. Вы что, не понимаете значения этого места для православных людей? Какая канатная дорога над монастырским комплексом? Над скитами, расположенными на островах? Безумный план в конце концов отменили, и наши публикации сыграли не последнюю роль.
Важную роль играл авторитет газеты. Именно он распахивал дубовые двери, давал огромную аудиторию, позволял говорить правду и не боятся последствий.
– Сейчас о многих недостатках мы узнаем из сообщений блогеров.
В.П. – Верно, вот только мотивация у них часто другая: рассказать первым, взбудоражить подписчиков, собрать лайки.
– Блогеры бывают намного смелее зарегистрированных СМИ, им не нужно одобрение вышестоящего начальства, для них не существует нежелательных тем. Отсюда и популярность. Разве не так?
В.П. – А кто мешает газетам, телевидению стать острее и актуальнее, но при этом сохранить то, что отсутствует у блогеров, – внимание к источникам информации, проверка достоверности фактов, умение работать профессионально? А это значит – говорит правду, быть ответственным и объективным. При этом подавать материал грамотно и интересно. Мы отучили нашего читателя думать. И нас устраивает этот поверхностный потребитель, которому надо приготовить информационную «еду» попроще, повкуснее и обязательно со «специями». Есть и другой мотив – угодить и пропиарить. Глядишь, заметят и отблагодарят. Я понимаю, что без финансовой поддержки любому изданию не выжить. Но и в этом поиске «легких спонсоров» тоже надо знать меру. А главное – чувствовать, что в наши суровые и тревожные времена приходит новый читатель, которому нужна правда, нужна мысль, нужно компетентное мнение. Он, этот читатель, уже не купится на лапидарный стиль, на дешёвые информационные побрякушки. Его жизнь неуклонно и скоротечно меняется. Уходит привычный и комфортный мир, а человек приходит в смятение. Ему нужны новые ориентиры, новые идеи, которые помогут выстоять и выжить в этом водовороте событий. Вспомните нашего земляка Сергея Есенина: «С того и мучаюсь, что не пойму – куда несет нас рок событий». Придёт, да уже наступает время, когда люди начинают ценить то, что дает пищу для размышлений. Что даёт понять – куда несет нас поток неумолимых событий. Так что надо нам, как говорится, быть в курсе. Я всегда за умную журналистику…
Беседовал Димитрий Соколов
Фото из архива В. Панкова и автора













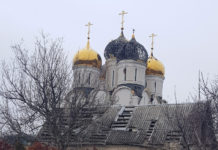
 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты