№83 (6088) от 4 ноября 2022
Рязанец Владимир Алымов десантировался внутри БМД-1, еще даже не получив лейтенантских погон
В июле 1974 года на полигоне Рязанского воздушно-десантного училища в Сельцах было совершено десантирование экипажа внутри боевой машины. В числе смельчаков – двое курсантов выпускного курса. Это был первый и последний подобный прыжок курсантов за всю историю Воздушно-десантных войск.
С одним из смельчаков, ныне проживающим в Рязанской области, мы решили познакомиться поближе. Итак, наш собеседник – полковник ВДВ в отставке Владимир Алымов.
Владимир Иванович, как вам могла прийти в голову столь авантюрная идея?
В.А. – В училище я поступил в 1970 году. 5 января 1973 года на полигоне «Слободка» под Тулой произошло первое в мире десантирование военнослужащих внутри боевой машины десанта. Командиром и механиком-водителем был преподаватель десантного училища Леонид Зуев, а наводчиком-оператором – Александр Маргелов, сын командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Десантирование прошло успешно.
И вы, еще даже не лейтенанты, решили повторить подвиг Александра Маргелова?
В.А. – Весной 1974 года у нас на курсе сообщили, что подобное испытание будет проведено и в Рязанской области. Планируется десантирование боевой машины десанта с экипажем на борту. Участвуют добровольцы из числа курсантов. Желающие могут написать рапорт. Весь наш 4-й курс написал рапорта. В июле во время госэкзаменов в учебном центре Сельцы стало известно, что для участия в испытаниях комиссия отобрала четырех курсантов. Нас вызывали по одному и спрашивали, на самом ли деле мы собираемся участвовать в этом экспериментальном прыжке. Мы отвечали утвердительно. Отступать – не в характере десантников.
Кому, кроме вас, еще повезло?
В.А. – В основой экипаж в качестве механика-водителя БМД вошли я и Николай Шевелев в роли наводчика-оператора. У меня дублером был Валерий Шабалин (в будущем – начальник разведки 137-го парашютно-десантного полка, погиб в Чечне). У Николая дублер – Александр Беспалов (ныне – преподаватель Военной академии имени М.В. Фрунзе, генерал-лейтенант).
Подготовку к этому прыжку мы начали прямо во время государственных экзаменов. Занимались укладкой многокупольной системы, работали по нескольку часов на радиостанции, сидя в макете боевой машины.
Чем был вызван сам эксперимент и потом его продолжение?
В.А. – Нам тогда объяснили, что десантирование механика-водителя и наводчика-оператора внутри боевой машины в разы сокращало время на приведение машины в боевую готовность для поддержки десантников своей огневой мощью.
Ранее, когда боевую технику выбрасывали в тыл противника, экипаж десантировался вслед за БМД. Разброс экипажа и машины на площадке приземления доходил до километра. В боевой обстановке, да еще под обстрелом, на это уходило много времени. Десантирование внутри БМД это время значительно сокращало, что и показал экспериментальный прыжок Александра Маргелова и Леонида Зуева 5 января 1973 года на полигоне 106-й гвардейской дивизии ВДВ.
Мы совершили прыжок 22 июля, уже после государственных экзаменов. Мы – еще курсанты, но документы на нас уже были отправлены в Москву на присвоение всему выпуску звания лейтенанта. Это было за 3 дня до выпуска.
Практической частью эксперимента руководил Александр Васильевич Маргелов. Каким он был?
В.А. – Гонял он нас, конечно, по-серьезному, несмотря на то, что был в звании капитана, хотя в комиссии были и майоры, и подполковники. Очень серьезно он относился к подготовке. У него был большой опыт. Он не только в боевой машине первым прыгал на многокупольной системе, испытывал и другие парашютно-десантные системы. Он прыгал на открытой платформе в составе расчета гаубицы, где были еще и ящики со снарядами. Вообще, страх! Я даже не представляю, как это… Он прыгал и на реактивной системе.
23 января 1976 года под Псковом впервые была успешно испытана система «Реактавр» десантирования боевой техники с экипажем – майором Александром Маргеловым и подполковником Леонидом Щербаковым.
В ночь перед прыжком вы вряд ли спали…
В.А. – Мы начали переживать за исход дела еще в период подготовки. Когда ты прыгаешь с парашютом, если не раскрылся основной, можешь открыть запасной парашют. Внутри БМД мы сидели в креслах без парашютов. Подобные кресла использовались в космическом корабле «Восток». Положение тела полулежачее. Для преодоления перегрузок внутри БМД-1 установили упрощенные варианты космических кресел «Казбек-Д».
Испытывались три машины. Первая машина радиоуправлялась с земли. В ней не было экипажа. Она приземлилась, но наехала на свои купола, намотала их на гусеницы и заглохла. Ее двигатель постоянно запускали дистанционно, но двигаться она уже не могла. Затем десантировалась наша машина и третья – реактивная система с собаками. Она разбилась на наших глазах. Видимо, один из куполов был бракованный. Мы увидели только дым и взлетевшие после взрыва в воздух катки от гусениц.
В АН-12 нас загружали на аэродроме в Дягилево, а выброска проходила на полигоне учебного центра Сельцы. Десантирование было примерно с высоты 1000 метров. В воздухе были всего несколько минут, но успели это сполна прочувствовать. Когда машина вываливается в люк, она клюет носом. Потом многокупольная система, состоящая из 5 куполов общей площадью 350 квадратных метров, вытягивается, и машина плавно падает вниз, приземляется на платформе.
С вами как-то общались те, кто вел вас на земле?
В.А. – По радиостанции нам сообщили: «Вышли на курс, приготовиться к десантированию!» В машине люки закрыты, темно. То, что происходило в воздухе, мы не видели. Штатный водитель этой машины оставил в кабине гаечный ключ. Во время падения этот ключ там начал летать от одного борта к другому.
Александр Васильевич Маргелов сообщал нам по рации, что до земли осталось 300, 200, 100 метров. Мы, конечно, приземлились удачно, но удар был сильным.
Какие задачи вы выполняли после приземления?
В.А. – После приземления моя задача, как механика-водителя, была такой – попасть в отделение управления, запустить и прогреть двигатель, поднять машину, натянуть гусеницы. В задачу напарника входило выбить подставку из-под пушки и отстегнуть тросы от боевой машины. Я выехал в условленное место, а мой напарник обстрелял движущиеся мишени.
Вот вы спросили, почему я согласился на такую авантюру. А как же иначе? Я же рапорт писал. Назад пути не было.
Ну и какие выводы для себя сделали?
В.А. – Командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов тысячу раз был прав. Десантирование подобным образом значительно сокращает время вступления в бой. Мы приземлились, и до момента, когда я начал съезжать с платформы, а Коля открыл стрельбу по мишеням, прошло около 2,5 минут. Это огромный вклад в развитие десантных войск.
Этот ваш прыжок был как-то отмечен командованием?
В.А. – На площадке приземления был построен весь наш курс, присутствовал начальник училища Алексей Васильевич Чикризов. Отправлял нас в этот полет заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Константин Курочкин. Фотографии, отражающие это событие, размещены в Рязанском музее истории ВДВ. На весь прыжок, включая взлет самолета, ушло примерно около получаса, но мы были все мокрые от волнения.
Через несколько дней на выпуске присутствовал командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов. Он вручил нам с Колей золотые командирские часы с надписью: «За храбрость». Также мы были награждены Почетным знаком ЦК ВЛКСМ, поскольку училище носило имя Ленинского комсомола.
А что было дальше, после получения лейтенантских погон?
В.А. – Те, кто хорошо учился, могли выбрать себе место дальнейшей службы. Я выбрал 103-ю гвардейскую дивизию, которая дислоцировалась в Белоруссии. Через полгода был назначен заместителем командира роты, а вскоре и командиром роты.
Послужить в этой должности пришлось недолго. В 1976 году пришел приказ командующего вернуться в училище, чтобы воспитывать будущих офицеров. В училище я прослужил 20 лет – от командира роты курсантов до начальника спецфакультета училища.
Беседовал Вячеслав Астафьев
Фото из личного архива Владимира Алымова













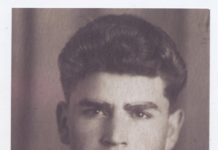


 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты