№42 (5846) от 5 июня 2020
Как соединить их для общего блага, не растеряв лучшие традиции образования?
Ближайшее будущее прогностики называют не иначе как посткоронавирусной эпохой. Вынужденные и, как нас уверяют, временные изменения в образовании насторожили педагогов, родителей, учеников. Но есть и те, кому занятия на удаленке понравились. Не исключено, что большие плюсы разглядели и менеджеры образовательной сферы, привыкшие иметь дело с экономическими категориями. На их стороне неумолимая цифровизация. Градус общественного беспокойства сумел понизить президент страны, заявивший, что разговоры о полном переходе на дистанционное образование он считает провокационными.
И все-таки есть процессы, влияние на которые со стороны социальных институтов сильно ограничено. Они обусловлены ходом цивилизационного развития. Так, например, у сетевого общения есть обратная сторона. Оно может стать незаметным средством социального дистанцирования, разделения общества на новые страты.
Однако картина будущего не фатальна. Мы пишем ее здесь и сейчас общими усилиями. Свобода выбора проявляется в наших намерениях. О некоторых гранях наметившихся изменений мы беседуем с заведующим кафедрой философии и методологии науки РГУ им. С.А. Есенина, доктором философских наук, профессором Р.Я. ПОДОЛЕМ.
Знания как товар
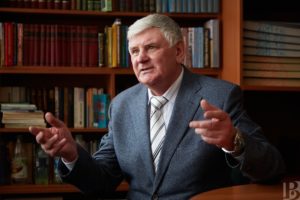 Р.В. – Рудольф Янович, у меня ощущение, что мы находимся сейчас в транзитной временной зоне. Старое ушло, новое еще не появилось. Какие перемены, на ваш взгляд, могут произойти? И как подготовиться к ним?
Р.В. – Рудольф Янович, у меня ощущение, что мы находимся сейчас в транзитной временной зоне. Старое ушло, новое еще не появилось. Какие перемены, на ваш взгляд, могут произойти? И как подготовиться к ним?
Р.П. – Полагаю, что кардинальных, сенсационных изменений не будет, потому что мир и так стремительно меняется. Давно начался переход от человека-производителя к человеку-потребителю. Меняется и вектор культуры: с создания на потребление. И эту пандемию можно рассматривать как точку бифуркации. Она может лишь предопределить изменения в отдельных сферах общественной жизни, но цивилизационный проект остается тем же самым – воспитание потребителя с неограниченными желаниями, ставящего превыше всех ценностей личный комфорт. А в потребительской культуре все обретает значимость товара и раскачивается на весах спроса и предложения. Долго этому меркантильному подходу сопротивлялась особая область человеческой жизни – накопление и передача знаний. Возникло желание превратить и эту кладовую в товар, причем самый дорогой. Процессу этому много лет. Он идет с тех пор, когда образование перевели в разряд услуг. А услуги регулируются рыночными механизмами, в отличие от служения, которое всегда бескорыстно. В ход идут маркетинговые стратегии, принципы супермаркетов, постоянные замеры покупательской активности и язык цифр.
Если мы посмотрим на дистанционное образование, то оно идеально укладывается в эту модель общего цивилизационного развития. «Дистант» хорошо встраивается в систему маркетинга, рыночных критериев оценки, когда по цифровому следу можно измерить частоту обращения к тем или иным образовательным ресурсам. Не зашли студенты на определенные порталы – минус преподавателю. Значит, не сумел их в ту сторону послать. Обратная сторона такого подхода – умножение симулякров и имитаций. Зайти на портал, в цифровую библиотеку, там отметиться – нет проблем. А уж что осталось в голове – кого это будет волновать?..
Образовательный супермаркет
Р.В. – Преподаватели стонут: дистанционное обучение не только не уменьшило, а увеличило поток отчетности.
Р.П. – Она буквально захлестнула! Чему удивляться? Ведь педагоги в маркетинговой модели выступают образовательными агентами, а значит, их усилия нужно каким-то образом измерять. Это запускает процесс воспроизводства симулякров. Огромное значение просвещения теряется, размывается, а за ним уходит и воспитание.
Р.В. – Как проходили ваши занятия по философии онлайн? Что вам показалось неудобным, неприятным?
Р.П. – Есть такое хорошее слово, передающее тонкие оттенки чувствования, – зябко. Так вот, в культуре дистанционного общения душа зябнет. Я не чувствую трепетного дыхания аудитории, когда люди собираются и идет такой шумок по залу, настройка на предстоящее общение. Меня всегда это воодушевляет как лектора. В очной форме я стараюсь активизировать аудиторию, у меня есть свои приемы. Например, прикидываюсь, что забыл какие-то определения, термины, имена, обращаюсь за помощью к студентам, начинается диалог… А через экран это перестает работать. Возрастает степень пассивности слушателей.
Скажу больше. В дистанционном обучении лекции утрачивают свою эксклюзивность. Небольшое отступление. Когда появилось огнестрельное оружие, то в Бургундии какой-то рыцарский орден констатировал, что контактный поединок теряет смысл. Возникновение дистанции сделало незаметным различие между трусом и героем. Это сразу привело к тому, что рыцарские турниры утратили свое значение, эпоха рыцарского благородства кончилась.
Или вспомним перипатетическую школу Аристотеля. В Ликее Аристотель любил прогуливаться с учениками и вести философские беседы. Кто сегодня вспомнит эту форму обучения? А когда-то вздыхали по утраченному. Нет, бессмысленно ностальгировать по тому, что ушло. Цифровизация образования – неизбежная реальность, вытекающая из технико-технологического вектора движения общества. С ней бесполезно бороться, нужно изучать, обсуждать, чтобы свести к минимуму побочные эффекты.
Р.В. – Какие, например?
Р.П. – Дистанционная форма обучения нивелирует различие преподавателей в их творческом горении. Это один аспект. А другой мне представляется более опасным. Будет происходить усиление социального инфантилизма. И это тоже часть большого цивилизационного тренда.
Человек всегда стремился к легкой жизни. Но сейчас это стремление вошло в ткань общества, потому что потребители всегда инфантильны. Нынешняя форма инфантилизма будет выражаться уже не в экономии физических усилий, а в экономии рефлексии. Осмысливать меняющуюся картину мира, составлять суждения людям будет все труднее и труднее, мало кто согласится тратить на это умственную энергию, да и навык, желание исчезнут. Массовому потребителю будут даны отдельные точки входа в базу знаний с помощью образовательных платформ и ограниченный набор компетенций, чтобы ими воспользоваться. На платформах эти знания будут располагаться слоями, и не факт, что новый слой, раскрывающий твой потенциал к самостоятельным исследованиям, откроется бесплатно.
И те, кто упаковывает знания на цифровых платформах, и те, кто их потребляет в виде готового продукта, придут к консенсусу: все должно быть легко, необременительно и быстро. Как говорится, без напрягов. Гносеологический инфантилизм создаст запрос на «легкое знание».
За легким знанием будут приходить в онлайн-среду, как за продуктами в супермаркет.
Р.В. – И оно будет доступно всем?
Р.П. – Оно не будет для всех одинаковым – в этом главное различие. Боюсь, что мы вскоре вступим в полосу разделения общества на возможности доступа к знаниям. Массовое образование будет цифровым, дешевым и по большей части дистанционным. Элитное – очным, дорогим, получаемым в живом контакте с педагогом в традиционных аудиториях и традиционными методами. И есть у меня еще одно тревожное предчувствие событий, которые могут произойти в отдаленной перспективе. Дай Бог, чтобы оно не оправдалось. Что если отпадет надобность в инфраструктуре учебных заведений высшей школы, особенно регионального значения? Понадобится всего несколько высококлассных цифровых образовательных платформ федерального уровня. И ведущие университеты страны их создадут. Причем все эти «дистанты» будут блестяще технологически упакованы. Цифровизация может привести к тому, что в соревнованиях цифровых платформ и онлайн-курсов региональные вузы не выдержат конкуренции. Что опять же будет легитимным в рыночной модели образования, где деньги следуют за учеником и слабые игроки выбывают.
Цифровые вузы начнут торговать доступным легким знанием. Но элиты его покупать не будут. Так, постепенно, знание пройдет этап социальной селекции. Еще раз хочу сказать, что это всего лишь мои предположения, по поводу которых можно развивать интересные дискуссии в научном сообществе, чтобы не допустить ошибок.
Неуловимая материя
Р.В. – Рудольф Янович, я для себя не могу определить – эти полтора месяца изоляции отдалили нас всех друг от друга или сблизили?
Р.П. – Если говорить о творческих людях, то их трудно разобщить, потому что таких людей объединяет создание вещей неутилитарных и производство смыслов. Это взаимно притягивает и обогащает. А когда ты привык получать готовый продукт, утрачивается смысл человеческих контактов. Товар есть, бери да потребляй. И кто тебе еще нужен?
Ничего не случилось неожиданного. Мы давно уже отпустили от себя эту материальную плотность мира, простились с привычками, которые стали нам непонятны. Ну, взять хотя бы буккросинг. Ведь это тоже предпосылка перестройки сознания на дистанцию, одна из граней потребительского общества. Употребил – выбросил. Книга перестала быть индивидуальным спутником жизни. Она превращается в культурного беспризорника и не находит приюта. И таких звоночков много прозвенело. Что происходит с печатным словом? Оно переходит в свою цифровую ипостась, а вместе с ним уходят неуловимые, но важные составляющие духовного познания. Словесность – крупнейшее достижение нашей национальной культуры. Исторически сложилось так, что в ней слово и логос были неразрывно связаны и обращены ко всему народу, а не только к просвещенной элите. Я не уверен, что мы будем верить «цифре» так же, как верим слову, потому что в силу своей однозначности, одномерности и конкретности цифра лишена такой же духовной символики.
Когда-то египетскому фараону жрецы с радостью сообщили, что финикийскую письменность они трансформировали в египетскую. Известие божественного фараона, как ни странно, опечалило. Это великое достижение, изрек он, но грустно, что вместе с ним будут утрачиваться великие свойства человеческой памяти.
Мир будет меняться, на смену одним матрицам бытия придут другие. И то, что нам сегодня кажется наступлением на традиции, войдет в привычку, приведет к тому, что внутри традиций произойдут мутации, начнутся новые витки развития. И кто тогда вспомнит о воздыханиях солнцеподобного фараона?
Беседовал Димитрий Соколов
Фото автора















 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты