№52 (6356) от 18 июля 2025
В автобиографии 1923 года Сергей Есенин писал: «В 1916 году был призван на военную службу. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском… По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Сослался на бедность, климат и проч.»
Обычно в автобиографиях упоминаются наиболее примечательные события жизни, и уж если Есенин спустя семь лет «не забыл» о встрече с августейшими особами, то эта встреча имела для него важное значение.
16 января 1916 года полковник Дмитрий Николаевич Ломан (правда, не адъютант царицы, а «Уполномоченный Ея Величества по Поезду») «возбудил перед Мобилизационным отделом Главного управления Генерального штаба ходатайство о направлении С.А. Есенина в состав санитарной команды поезда» (Белоусов В.Г. «Сергей Есенин». Литературная хроника. Ч.1. – М., 1969. – С. 83). Литературовед Владимир Германович Белоусов далее в этом издании пояснял: «Причины заботы о поэте очевидны. 20 ноября 1915 года царём был подписан указ о призыве новобранцев в 1916 году. Подлежал призыву и Сергей Есенин. Это обстоятельство было использовано Ломаном в целях перевода Есенина для службы в Царское Село, сближения поэта с «Обществом возрождения художественной Руси», попытки использования выдающегося дарования поэта для прославления царского престола» (Там же, с. 232).
Сергей Александрович был знаком с деятельностью этого «Общества…» и с одним из его организаторов – Дмитрием Николаевичем Ломаном (к слову, отец царскосельского полковника, Николай Логинович, был сотрудником журнала «Искра», а предок Юхан – крупным шведским поэтом. – Вл.Х.).
По воспоминаниям сына Д.Н. Ломана, Юрия, Есенин как-то даже принимал участие в одном из концертов в Фёдоровском городке Царского Села. Здесь и находилось «Общество возрождения художественной Руси». Выступал поэт в русском костюме и читал поэму «Русь».
Да и само «Общество…» радело о русской старине, чистоте речи. У Д.Н. Ломана собирались такие видные деятели национальной культуры, как художники В.М. и А.М. Васнецовы, М.В. Нестеров, Н.К. Рерих, И.Я. Билибин, архитекторы А.В. Щусев, А.В. Померанцев, музыкант В.В. Андреев, собиратель древностей Н.П. Лихачёв и многие другие.
Вот в какое окружение должен был попасть Есенин. Но пока он призван (25 марта 1916 года) в армию и «включён в состав запасного батальона, готовящегося для отправки на фронт» (Белоусов В.Г. «Сергей Есенин». Ч.1. С. 89), а 5 апреля получает от полковника Ломана удостоверение об откомандировании в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 имени императрицы Александры Фёдоровны и 20-го числа прибывает на место службы.
Конечно же, нельзя не отметить те «многие льготы», к которым был представлен поэт: он отлучается в Москву, после операции аппендицита получает краткосрочный отпуск на родину, общается с литературной средой, много пишет.
Но, безусловно, приходилось Есенину и выезжать на фронт с санитарным поездом. В числе обязанностей поэта была запись имён и фамилий раненых. И, может быть, в каких-либо архивах хранятся эти листы с округлым и отрывистым есенинским почерком…
Царскосельский солдатский и офицерский лазареты носили имена великих княжон Марии и Анастасии. Это обстоятельство, разумеется, накладывало определённые обязательства на представителей царской семьи.
И вот в день именин великой княжны Марии Николаевны в офицерском лазарете состоялся концерт, о котором и рассказывал Сергей Есенин спустя семь лет в автобиографии. Он выступил 22 июля 1916 года с чтением своих стихов перед императрицей и её дочерьми, царевнами Татьяной, Ольгой, Марией, Анастасией. В концертную программу была включена поэма Есенина «Русь». По воспоминаниям же писателя Михаила Павловича Мурашёва, друга поэта, он во время этого выступления прочёл четыре стихотворения: «Странники» (видимо, «Калики». – Вл.Х.), «Микола» и ещё два каких-то…»
К столь заметному для себя событию Сергей Есенин написал, и, скорее всего, именно по просьбе полковника Ломана, традиционную для таких случаев оду. Но внимание поэта обращено здесь не на государя с государыней, а на их юных дочерей, что придаёт этим, далеко не самым известным, строкам в творческом наследии Есенина искренность и человечность:
В багровом зареве закат шипуч и пенен,
Берёзки белые горят в своих венцах.
Приветствует мой стих младых царевен
И кротость юную в их ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки,
Они тому, кто шёл страдать за нас,
Протягивают царственные руки,
Благословляя их к грядущей жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света,
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть…
И вздрагивают стены лазарета
От жалости, что им сжимает грудь.
Всё ближе тянет их рукой неодолимой
Туда, где скорбь кладёт печать на лбу.
О, помолись, святая Магдалина,
За их судьбу.
Вот что значит – истинный поэт: никакого подобострастия и заискивания. И хотя за участие в концерте автору полагались золотые часы с гербом и цепочкой, Есенин в дальнейшем, несмотря на просьбы, «отказался написать стихи в честь царя». Но произнести доброе слово четырём девушкам, «младым царевнам», как бы предчувствуя все те испытания, которые выпадут им, поэт был, конечно, вправе: «О, помолись, святая Магдалина, //За их судьбу».
«Их судьба» оказалась трагичной: менее двух лет оставалось до ночных выстрелов в подвале Ипатьевского особняка…
Владимир Хомяков, член Союза писателей России,
дважды лауреат Всероссийского конкурса имени Сергея Есенина













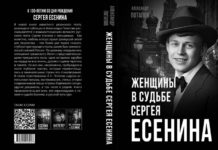
 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты