№11 (6315) от 14 февраля 2025
Завтра – круглая дата рождения этого известного в регионе и за его пределами замечательного человека. Совсем недавно член Союза писателей России, Почётный гражданин города Сасово Владимир Алексеевич Хомяков стал гостем редакции. Мы говорили с ним о жизни и литературе, о рязанской литературной среде и её героях. Владимир Алексеевич многое рассказал о своих творческих шагах и своих наставниках. Лично меня поразило: за два с лишним часа мой собеседник ни о ком не отозвался дурно – ни о живущих собратьях по перу, ни об ушедших. Это так редко сегодня. Ведь творческая среда, и писательская в частности, очень непростая. Секрет такого отношения к жизни и людям Владимир Алексеевич не утаил: «Люби прежде всего дело. Ему служи и им занимайся, в его интересах действуй. Вот и всё». И ещё одно личное замечание позволю себе. Испытания, выпавшие на долю этого человека, не озлобили его и не сломили. А это дорогого стоит во все времена, а в наши – особенно. Впрочем, как заметил поэт Александр Кушнер, «Время – это испытанье. Не завидуй никому».
Основные моменты нашего разговора с Владимиром Хомяковым предлагаем вниманию читателей.
– Могла бы ваша жизнь сложиться иначе?
В.Х. – Жизнь любого человека могла сложиться иначе. Возьмём известное стихотворение Сергея Есенина «Письмо от матери», написанное в 1924 году. Там есть такие строки: «Мне страх не нравится, / Что ты поэт, / Что ты сдружился / С славою плохою. / Гораздо лучше б / С малых лет / Ходил ты в поле за сохою». И далее: «…И при твоём уме – / Пост председателя / В волисполкоме». Родители хотят, чтобы их дети, что называется, «выбились в люди». Это вполне понятно. Я до десятого класса числился в неплохих учениках по математике, даже несколько раз становился призёром школьных олимпиад по этому предмету. И вдруг, почти в одночасье, судьба моя сделала крутой поворот. В конце февраля 1972 года я, будучи участником районной олимпиады по литературе, неожиданно для себя стал победителем этого творческого состязания и был направлен в Рязань, «на область». Тогда же во время прогулки ко мне внезапно пришли мои первые стихотворные строки: «Мне не надо покоя, / сердце рвётся в полёт. / Жизнь сказала: «По коням!» / Жизнь сказала: «Вперёд!» И с тех пор моя жизненная стезя повернулась в сторону поэзии. А на состоявшейся в марте 1972 года в Рязанском пединституте областной олимпиаде по литературе я так же непредсказуемо для себя занял третье место, став, можно сказать, бронзовым призёром. Этот успех меня окрылил, стихи складывались легко, я за пять недель, до начала апреля, преодолел путь, на который у иных авторов уходят десятилетия. И это не похвальба, а правда моей судьбы.
– Вы пишете не только стихи. Кто вы прежде всего: поэт? публицист? общественный деятель? литератор?
В.Х. – Отвечу на вопрос опять стихами. А поможет мне Александр Пушкин, который в своём произведении «Моя родословная» (1830) отозвался о себе так: «Я грамотей и стихотворец…» Вот таковым я и являюсь. Мне нравится рифмовать, и многие говорят, что у меня это получается. А литературная публицистика, к увлечению которой я пришёл, будучи студентом библиотечного факультета Рязанского филиала МГИК, это ещё одно крыло моей деятельности. Дополню только, что, имея два крыла, легче лететь.
– Насколько близка вам когда-то заезженная, а в последние годы редко всерьёз упоминаемая жизненная цель: «Поэтом можешь ты не быть,/Но гражданином быть обязан»?
В.Х. – Да, эти строки из-за частого употребления произносятся порою с ироническим оттенком. А жаль. Скажу одно: в наше очень непростое время известная цитата из стихотворения Николая Некрасова «Поэт и гражданин» крайне актуальна. Когда три года назад началась специальная военная операция, то в связи с этим судьбоносным для нашей страны событием произошёл резкий раздел в литературной среде. Единственной организацией пишущих авторов, практически безоговорочно вставшей в поддержку Российской армии, стал Союз писателей России, в котором ваш покорный слуга имеет честь состоять уже три десятка лет. При активном участии этой старейшей творческой организации выпущены десятки патриотических изданий, в том числе и антология «За други своя». Мои собратья по перу не только отправляют в зону боевого соприкосновения гуманитарную помощь, но и неоднократно выезжали туда с литературным десантом. Целый ряд членов Союза писателей находится на фронте, сражаясь и погибая за Отечество. А коли в силу немолодого возраста мы не можем принять участие в боевых действиях, то вместо нас уходят на войну наши дети. В их числе был и мой сын Антон, сержант Российской армии, доброволец, командир стрелкового отделения, посмертно награждённый орденом Мужества. Подвигу воина-героя посвящена моя книга «Сын встаёт над горестью земной», совсем недавно выпущенная саратовским издательством «Амирит».
– Какую литературу вы сегодня читаете и считаете настоящей?
В.Х. – Я в этом не оригинален. Со мной всегда книги Александра Пушкина, Сергея Есенина, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Глеба Горбовского, поэтические антологии ХIХ и ХХ веков. Произведения, размещённые в этих дорогих мне изданиях, я, вне сомнения, считаю настоящими. Часто обращаюсь к творчеству своих земляков: Евгения Маркина, Александра Архипова, Алексея Корнеева, Анатолия Сенина, Бориса Жаворонкова, Валентина Сафонова, Бориса Шишаева, Валерия Авдеева. Это мои наставники. Учусь у них до сих пор. Совсем недавно мне довелось прочитать «Рязанскую литературную тетрадь», размещённую в августовском номере за 2024 год международного журнала «Литературные знакомства», где напечатаны произведения почти всех представителей нашего регионального отделения Союза писателей России. И хочу сказать, что у меня в целом благоприятное впечатление от опубликованных здесь стихов и рассказов.
– В чём, по-вашему, первостепенное значение литературы? Должна ли она воспитывать?
В.Х. – И опять я буду традиционен. Первостепенное значение литературы я вижу в правдивом отображении жизни в художественных образах. Но добавлю, что такое отображение не обязательно должно иметь документальную основу. Есть произведения, относящиеся к жанру фантастики, которые порой бывают куда правдивее иных романов и повестей, написанных с натуры. Воспитательная же роль литературы заключается, по моему мнению, в том, что даёт читателю глубже познать свой родной язык, научиться точному употреблению слов. Но это относится в основном к лучшим произведениям, созданным до начала 90-х годов прошлого столетия. В настоящее время институт редакторов и корректоров фактически не работает или работает не совсем качественно. Я при подготовке своих книг к изданию надеюсь, разумеется, только на свои силы и знания.
– Как рождаются у вас стихи? Приоткройте нам эту тайну.
В.Х. – Опять-таки обращусь за помощью к классике. В 1940 году Анна Ахматова написала так: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда, / Как жёлтый одуванчик у забора, / Как лопухи и лебеда». Точные строки! Действительно, создание стихотворения почти непредсказуемо и бывает сложно сказать, что вдруг послужило поводом для создания того или иного произведения. Некоторые стихи рождаются мгновенно и на долгие годы. А над некоторыми, уже, казалось бы, готовыми, приходится работать несколько десятилетий. К примеру, стихотворение «Моя рязанская отчизна» было мной задумано в середине семидесятых, ещё во время армейской службы в Казахстане, написалось в октябре 1982-го, под впечатлением от первого посещения родины Сергея Есенина, села Константиново, а потом почти сорок (!) лет, что называется, доводилось до ума. Мечтаю, что удастся в нынешнем году принять участие в празднике, посвящённом 130-летию великого поэта, и прочитать эти стихи широкому кругу почитателей русской словесности.
– В вашей судьбе, как в судьбах очень многих людей, взлёты, радости и творческие озарения сменяются потерями, скорбными утратами. Что помогает вам достойно переживать трудные моменты и дает силы жить дальше?
В.Х. – В моей жизни действительно всякое бывало. Сердечно благодарен своим близким людям за то, что поддерживают меня в моём горе, не дают пасть духом. Во многом спасение, конечно, в литературной работе, которой я занят постоянно вот уже почти 53 года.
– На какого читателя вы рассчитываете? О каком, может быть, мечтаете?
В.Х. – Я рассчитываю на читателя вдумчивого, благодарного, образованного. И таковые есть в моём родном городе и округе. Отклики бывают зачастую самые неожиданные: думаешь, что никому твои рифмованные сочинения не нужны, ан нет – читают люди, останавливают при встрече, высказывают своё мнение. И приятно выслушивать светлые слова в свой адрес.
– О чём вы ждали от меня вопроса, а я его так и не задала?
В.Х. – Такой вопрос мог бы быть о деятельности Сасовского литературного клуба «Первая строка», созданием которого я стал заниматься сразу же после увольнения в запас, в конце мая 1976 года. Трудное это было дело: почти девять лет ушло на подготовительный период, и только в феврале 1985-го мы провели учредительное заседание клуба. Встречаемся, разумеется, в читальном зале нашей городской библиотеки № 1, участвуем во всероссийском Аверкинском фестивале, литературных чтениях, посвящённых Алексею Новикову-Прибою, всероссийском Есенинском и областном Маркинском праздниках поэзии, выпускаем новые стихотворные и прозаические сборники, активно публикуемся в столичной печати и альманахе «Литературная Рязань». В общем, жизнь продолжается!
***
Мой одинокий май…
Негаданно-нежданно
ударила беда,
потом ещё беда.
Два имени шепчу,
шепчу: «Антон и Анна».
То имена детей,
как Месяц и Звезда.
Мой одинокий май…
Клонюсь перед иконой.
Начертаны слова:
«Спаси и сохрани».
И повторяет их
мир юный, заоконный.
И значит, впереди –
желанные огни.
Мой одинокий май –
затерянное счастье.
И плата нелегка,
и память высока.
Я в небеса смотрю.
Окно раскрыто настежь.
И в комнате моей
кружатся облака.
Мой одинокий май –
сиреневые звёзды,
забывчивые сны,
пророческие дни.
Свой вечный черновик –
свои листаю вёсны.
И значит, впереди –
желанные огни…
***
Увидимся – и удивимся,
и друг на друга наглядимся,
пока тепло и не темно.
И вспомним, как по окской сини
шёл теплоход, высокий, сильный,
шёл теплоход «Бородино».
Какое гордое названье!
И в нём – «Отчизны призыванье»,
как Пушкин юный возгласил.
Ласкали волны берег жёлтый,
но, теплоход, куда ушёл ты,
виденьем белым просквозил?
Любовь порой с виденьем схожа,
и, может, этим нам дороже,
когда, по-пушкински легка,
сердец касается крылами
и превращает холод в пламень
её негромкая строка.
Всё было сказано когда-то,
не смочь, как Пушкин и как Данте,
такое нам произнести.
Но не грусти, не плачь ночами:
с тобою вечно мы в начале
неизъяснимого пути.
А что, увы, косноязычны,
так, в общем, к этому привычны
и наши грешные уста.
И потому молчанье – злато.
Мы пьём за всё, что в мире свято,
за то, что Небом жизнь объята…
Да будет чара не пуста!
***
Нами столько вместе прожито дней!
Вот и вновь растаял
мартовский снег.
– Моя кошка! – говорю я о ней.
А она мурлычет: – Мой человек!
И пускай под вечер мы устаём, –
не пролёживаем долго бока:
вышло утро – на зарядку встаём
и немного заморим червяка.
Я за дело, за работу сажусь,
чтоб запела, забурлила строка.
На свою подружку не нагляжусь:
до чего она в движеньях ловка!
Вот взлетит на подоконник
стрелой,
вот промчится воронёным коньком,
а не то – начнёт вертеться юлой:
всё с задором молодым, с огоньком!
И пока глаголю я о мирах,
и пока я отворяю слова,
мне мяучит, развалясь на коврах:
«Не грусти, на свете всё –
трын-трава!»
Завершаем мы раздумья свои.
Как мне пишется сегодня легко!
А потом гоняем вместе чаи,
нет, она, конечно, пьёт молоко.
А за окнами снижается свет,
а за окнами сгущается тень.
Остывающему солнцу вослед
улыбнёмся: «До свидания, день!»
Утро будет, как всегда, мудреней.
Так, в согласье, коротаем свой век.
– Моя кошка! – говорю я о ней.
А она мурлычет: – Мой человек!
Беседовала Людмила Трухина












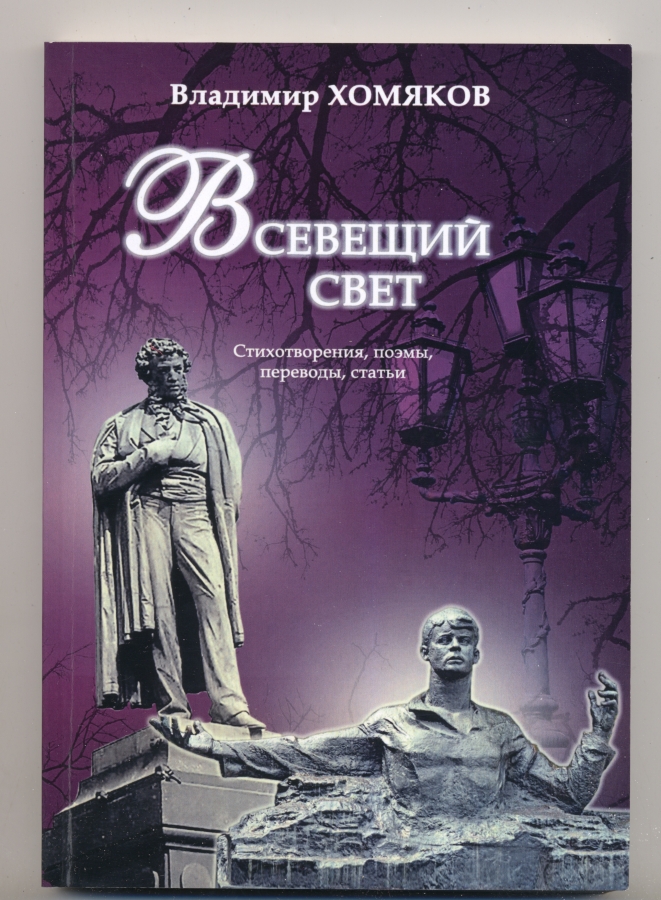



 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты