№86 (5890) от 6 ноября 2020
Уважаемые читатели, Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России завершен. Проект ЭТК «Паустовский», который мы столь активно поддерживали на своих страницах, получил статус «Территории перспективного развития» и будет реализован в нашем регионе. А мы открываем новый цикл публикаций, авторами которых может стать каждый из вас. Давайте вместе вспомним, какой была Мещера вчера, какие светлые и грустные моменты мы пережили вместе с этой неспешной и необыкновенно красивой территорией, покрытой лесами, полями, реками и озерами. Вспомним о людях, которые жили и живут более чем в 174 населенных пунктах, входящих в состав будущего кластера. О встречах с гостями Мещеры. Свои рассказы, заметки, воспоминания, фотографии присылайте на адрес руководителя проекта Екатерины Детушевой detushevae@mail.ru.
Свои публикации вы увидите на полосах нашего издания, в разделе «Мещерские истории» на сайте rv-ryazan.ru, а также на официальных страницах «ВКонтакте» «Рязанских ведомостей» и АНО «Центр развития туризма».
Сегодня мы знакомим вас с первыми публикациями наших читателей.
Сказы деда Олеши
На Рязанщине-то, куды не глянь, везде найдешь Тропу Паустовского. Что говорить, уважал Константин Георгиевич нашу землю рязанскую, а уж в Мещере – души не чаял! А ведь мало кто знает, откуда тропка та начало свое берет. Откуда? И думать нечего – в Тумском крае ей начало и есть! Константин Георгиевич и сам о том написал. Не все, конечно, ну, так я добавлю, ежели что. Зашел, значит, Паустовский в Мещеру со стороны Владимира. Шел он себе неспешно по тракту Владимирскому, а тут ему Тума встретилась на пути. Дошел Паустовский до нашего Троицкого храму – стоит, любуется. Ясное дело, как не полюбоваться такой красотой! В это время мимо я шел. Ну, Паустовский меня увидал, обрадовался и кричит: «Здравствуй, Олеша!» Я ему в ответ тоже радостно: «Здравствуйте, Константин Георгич! Откудова Вы знать меня знаете?» Он мне еще радостнее: «Смешной ты, братец! Вон же у тебя на торбе имя твое вышито». Ну тут нам совсем радостно стало и поздоровались мы честь по чести.
Решил я спросить у гостя дорогого, как он тут оказался. Только, значит, рот я открыть собрался, а Константин Георгиевич уже сам мне на все отвечает: «Места, Олеша, у вас замечательные! Вроде бы и нет ничего особенного, а сердце так сжимает от этих просторов – слезы из глаз сами катятся». «Что правда, то правда! – отвечаю я ему. – У меня вот еще от таких пейзажей в носе так шебаршит – мочи нет! Говорят, энто тоже от чувств».
Постояли мы, значит, с Паустовским так минут несколько, побеседовали. А потом я до станции Тумская его проводил и на поезд посадил. В те времена по нашей узкоколейке паровоз диковинный ходил. Название-то его официальное натощак и не выговоришь – «паровоз Стефенсона». А в народе его просто величали – «мерин»! А что? Ехал наш паровоз аккурат с такой же скоростью, что и конь. Вон и Паустовский писал, мол, узкоколейка в Мещере – самая тихоходная железная дорога в стране. Про энту тихоходность шутейка ходила. Катил как-то наш «мерин» мимо одной деревушки. Вдоль путей шла ветхая старуха с корзинами – в Туму, видимо, на базар. Увидал старуху машинист и кричит ей, мол, садитесь, пожалуйста, подвезу. А старуха-то наша, не сбавляя шагу, ему в ответ: «Спасибо, милой! Но я уж больно тороплюсь». Вот такие у нас были тихоходные паровозы и быстроходные старухи!
Да, были-небыли…”
Алексей Гушан, поэт, член Союза писателей России,
основатель Дома-музея тумского сказителя «Были-небыли»
Цена двух километров
 «Тума железная, а люди в ней каменные», – так местные жители сами про себя говорили», – писал Александр Куприн в рассказе «Попрыгунья-стрекоза»
«Тума железная, а люди в ней каменные», – так местные жители сами про себя говорили», – писал Александр Куприн в рассказе «Попрыгунья-стрекоза»
Я родился в 1970 году в небольшом мещерском поселке Тума, где начиналась зеленая ветка узкоколейки до Рязани.
Все детство мы провели рядом с нею, катались в маленьких вагончиках, спрыгивая на ходу. Хорошо, что двигался поезд, у которого было много вагонов – с дровами, ватой, даже магазин на колесах был, на совсем небольшой скорости, и мы обходились без травм.
Любимым занятием при приближении поезда было положить на рельсы монетку, а потом смотреть, как поезд ее расплющил.
В начальной школе, где я провел 3 класса, окна выходили на железнодорожную платформу, которая была всего в десяти метрах от нас. И когда паровозик издавал гудок, начиная движение, все мысли мои отправлялись с ним: в далекое путешествие, в мои детские мечты.
Однажды во 2-м классе мы с первой учительницей ездили в Головановку, где у узкоколейки был тупик. И пока поезд собирался в обратный путь, долго сидели у пруда, обсуждая наше классное путешествие.
Сорок лет спустя я вернулся к тому пруду. Вспомнил и собранный тогда букет ландышей, и свои первые снимки, сделанные фотоаппаратом «Вилия». Оставалось тогда еще в Головановке здание бывшего вокзала, но вот рельсов уже не было.
До развала Союза радовала нас неспешная железная дорога, служившая для местного населения средством сообщения между деревнями. Сидя в пустом вагоне с открытой дверью, ездили мы в Клепики и домой в Туму. Часа полтора шел поезд 25 километров, неторопливо постукивая своими колесами в такт неторопливой Мещере.
Но пришли другие времена, узкоколейка стала никому не нужна, и ее разобрали на металлолом. Те, кто этим занимался, поговаривали, что попадались и демидовские надписи, и немецкие – 1942 года. Но уничтожил эти «документы» истории засевший в нас в годы СССР лозунг: «Все ненужное – на слом! Соберем металлолом!»
Собрали. Вот только богаче не стали. Цена этих разобранных километров – потеря памяти о людях, которые на ней больше ста лет жили и трудились. А за разбор узкоколейки с работниками расплатились… двумя километрами рельс, которые затем были сданы в металлолом. Есть еще, если идти по шпалам, десятиметровый участок узкоколейки. Но нет самой дороги. Даже вывески «Тумская» уже нет… А рельс с выбитой надписью «1895 год УКЖД» – датой начала постройки узкоколейки, я бережно храню у себя дома.
Михаил Корнев, член Русского географического общества, фотограф
Фото из личного архива
Занимательная кулинария
 Весна. Майские праздники. Дружественная нам компания по традиции отправилась на байдарках по разлившейся Пре. И был в компании нормальный и веселый парень, как, собственно, и все парни в этой компании. Звали его Юра. А у Юры, как, собственно, у всех в этой компании, была жена. Ее называть не будем, но сообщим, что она готовила баснословно вкусный походный борщ. Отведать этот борщ на Пре – не просто обед, а ритуал, исполнения которого вся компания ожидала целую зиму.
Весна. Майские праздники. Дружественная нам компания по традиции отправилась на байдарках по разлившейся Пре. И был в компании нормальный и веселый парень, как, собственно, и все парни в этой компании. Звали его Юра. А у Юры, как, собственно, у всех в этой компании, была жена. Ее называть не будем, но сообщим, что она готовила баснословно вкусный походный борщ. Отведать этот борщ на Пре – не просто обед, а ритуал, исполнения которого вся компания ожидала целую зиму.
Но случилась незадача. Не смогла жена пойти в тот поход. Но еще в городе тщательно подготовила Юру. Она нарезала ему все ингредиенты, сложила их в отдельные пластиковые мешочки, мешочки пронумеровала. К мешочкам была придана подробная инструкция, когда, что и как закладывать в борщ.
И вот она – долгожданная стоянка, на которой и планировалось сотворить это глобальное кулинарное чудо. Вышли на берег, поставили лагерь, выпили, как водится. И запили чистой артезианской водой. Да-да, это была та компания, которая не то что чай, а даже суп делает не из речной воды, а из бутилированной, дабы исключить кишечные рассторойства, торфяную отрыжку и прочие неприятности.
Достал Юра мешочки и инструкцию. Тщательно прочитал, разложил мешочки по порядку номеров и принялся чистить картошку – единственный корнеплод, который жена не приготовила, справедливо рассудив, что уж что-что, а картофель Юра и сам почистить в состоянии. Ну, конечно же, не вопрос! Юра быстро обезмундирил клубни, положил их в казан и подумал: «Тоже мне, инструкция, разве все вместе не сварится?» Он разом вывалил содержимое всех пакетиков в общую кучу, залил ее водой, закрыл казан крышкой и раскочегарил костер. Пока борщ кипит, можно было пропустить еще по стопарику. С тем предложением Юра и обратился к главному виночерпию.
Тот спросил:
– А из байдарок все достали?
– Все.
– Я баклажку со спиртом не вижу.
– Так вон все они стоят.
– Эти с водой, квадратные, а со спиртом круглая была и пластик у нее зеленый.
Стали искать. Как пропала! Тут кто-то увидел в мусорной яме искомую пятилитровку:
– Эта?
– Эта!
– А почему пустая?
– Я ее в казан вылил, – убитым голосом сообщил Юра.
Вот так компания осталась и без борща, и без спирта.
Посему совет: не пижоньтесь вы с этими баклажками магазинной воды. Одно дело с утра к ней приложиться, это я понимаю, а уж борщ из нее варить – нонсенс. Имею право так говорить. Я хожу на Пру по половодью ежегодно и без перерыва уже 30 лет и всегда пью воду прямо из реки. Ни разу со мной ничего не случилось. А уж суп сварганить из речной водички – сам Бог велел. Он коричневый получается, как с дополнительным наваром! Про чай и не говорю, кипяток и без заварки как «липтон»!
Игорь Крысанов












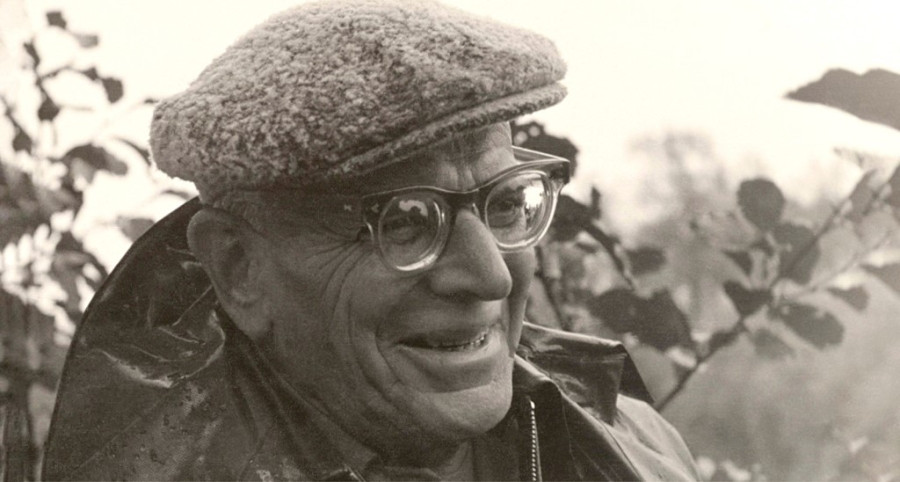



 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты