№2 (6206) от 12 января 2024
Мой читательский год начался с книги Елены Сафроновой «Тяжкий путь избранных» (16+). Это сборник рассказов о необычных людях, из которых практически каждый покажется нам смутно знакомым. Вот любитель теорий заговоров, писатель и художник в поисках вдохновения, «призраки» из прошлого – одинокие души, повстречавшие друг друга в сумрачной забегаловке. Человек, то ли не желающий наживаться на чужой жажде чудес, то ли не нашедший применения своим талантам. Интересны и два «зеркальных» женских образа: одна героиня – «оборотень», безжалостно проклинающий всех, с кем разошлись дороги или не нашлось общего языка, другая– наоборот, «блаженная», готовая понять и пожалеть даже подлеца. Оказывается, оба пути ведут в один и тот же тупик, у жизни на обочине чужих судеб оказывается закономерный итог. А вот книгочеи, утратившие связь с реальностью в погоне за высшим смыслом… Сколько веков таинственный краевед будет поджидать у старинной часовни равнодушных бюрократов, каким увидит загробный мир (и изнанку собственного бытия) высокопоставленный «благодетель»? Впрочем, Елена Сафронова не только отвечает на вопросы, но и задает их читателю – есть над чем подумать. И, конечно же, о чем побеседовать с самим автором.
– Впервые взять в руки свою новую книгу, да ещё и вышедшую в известном издательстве, – это всегда особенные ощущения. Поделитесь, пожалуйста, своими.
Е.С. – Про ощущения радости, если не восторга, трудно сказать что-то оригинальное. А насчет «долгожданности»… Для меня книга точно стала таковой. Достаточно сказать, что рассказы, составившие её, написаны примерно за 25 лет. Самые ранние истории относятся к концу 1990-х. Самые «поздние» – к 2022 году. С другой стороны, может быть, это добавило книге интересности, одни тексты как будто «оттенили» другие. Недаром же известный прозаик и эссеист Илья Кочергин, написавший для сборника представление, выразился так: «Ощущение, что приехал к знакомым, и поселили тебя в комфортном, гостеприимном доме, где всё устроено так, чтобы тебе было тут хорошо и спокойно. Ходишь из одного рассказа в другой, оглядываешься. Вроде и чужие рассказы, а чувствуешь себя как дома». Возможно, такое ощущение первым читателям книги, еще рукописи, создал как раз большой временной диапазон и неизбежная «диалектика» автора.
– Почему «бумажные» книги остаются такими значимыми для литпроцесса и вообще в повседневной жизни, несмотря на то что практически все тексты можно прочесть в сети?
Е.С. – Сталкивалась с этим неоднократно. Моя фантастика выходила в середине 2010-х в виде электронных книг. Но в профессиональных кругах дали понять весьма чётко, что электронные книги не выдвигают на профильные премии, не особо жалуют критическими отзывами. Хотя почему так, не объяснили. Я тоже не знаю доподлинно. Думаю, что все же в массовом сознании много «рудиментов», и один из них как раз касается того, что якобы бумажная книга или публикация «солиднее» сетевого издания. Но ведь, если вдуматься, публикация рассказа на электронном ресурсе гарантирует ему прочтение по всему миру, а издание книги тиражом 100 экземпляров за свой счет разойдется только по месту твоего проживания, в лучшем случае – в пару соседних городов… К изданию книг за свой счет я отношусь с сомнением, о чем не раз писала. Но полностью сбрасывать эту схему со счетов нельзя. Обстоятельства бывают разные. Мне так пришлось выпустить книгу критики осенью 2023 года, на которую вроде бы полагался федеральный грант, но в силу таинственных обстоятельств, получивших разнородные объяснения, так до адресата и не дошел. Сборник критики и публицистики «Улица с фонарями» помог выпустить мой муж. Он оказался его последним мне подарком…
– О современной литературной критике, в том числе в вашем лице, разговор, надеюсь, будет отдельный. А пока что – как бы вы сами охарактеризовали рассказы из сборника? Мистика или научная фантастика? Все они, так или иначе, о людях с особенным мировосприятием. Можно ли сказать, что «избранные» – это все главные герои книги, а не только Златоврат, чья история дала название книге? Что в конечном итоге важнее – проникнуть в суть вещей (как главный герой «Борщевика») или разобраться в самом себе (как Ада)?
Е.С. – Конечно, Мария, вы правильно «прочитали» название. Я изначально формировала книгу, включая в нее рассказы, в том или ином ракурсе трактующие тему «избранничества». И, конечно, на мой взгляд, это чистая мистика. На написание научной фантастики я даже и не претендую. Чтобы её писать качественно, надо обладать высочайшим уровнем подготовки и компетенции в технической, математической, естественнонаучной сферах. А у меня за плечами только вечные двойки по физике и математике в «лучшей в мире» советской школе. Я её, увы, таковой не могу считать. После 10 лет занятий с якобы сильными предметниками по техническим дисциплинам я знаю, как выразилась экс-директриса моего учебного заведения, только то, что мне «было дано» – всякую гуманитаристику. Но если в школе ты освоил лишь то, что тебе было дано, какой у курса среднего образования КПД?.. Чтобы подсчитать, что нулевой, моих убогих знаний по арифметике хватает… А что важнее?.. Пусть решают читатели. Мне как автору очевидно: в выигрыше никто из «избранных» не остался…
– Что из нашей рязанской действительности проникало в ваши произведения, вдохновляло как писателя?
Е.С. – Я вообще не пишу «с натуры», и Рязань, да и никакие конкретные города, кроме Москвы, не фигурируют обычно в моих произведениях. Возьмем данный сборник. Дело «Последней рубашки» и «Вири» происходит в столице, это обозначено. Сюжет «Меры терпения» развивается на берегах реки Кокшеньги, протекающей в Вологодской и Архангельской областях, там был важен как место действия Русский Север. Все же прочие рассказы дислоцированы не в конкретных городах, а в населенных пунктах, которые в принципе узнать нельзя – да это и не надо. Ибо имеется в виду не определенный город, а человеческое «общежитие» в высоком смысле слова. Когда мне для фона нужна глубокая провинция, я придумываю названия типа Похвалынск, Гдетотамск, Небалуйск. Другое дело, что на Рязанщине почему-то принято читать прозу через отождествление с локусом – вот и в моем романе десятилетней давности «Жители ноосферы» в Березани упорно «искали» Рязань, хотя Рязань там прямо упомянута как город, где главная героиня отродясь не бывала. Возможно, к тому читателей подталкивает обилие документальной прозы и автофикшна, которые привыкли создавать здешние авторы. Но привнесение в художественную ткань Рязани – не мой случай. Из действительности мне интересны люди, а не города. А НИТИ из рассказа «Феномен» – отнюдь не известное рязанцам учреждение, ставшее торговым центром. Поинтересуйтесь, в скольких городах России существуют до сих пор научно-исследовательские технологические институты.
– Сразу в нескольких рассказах, написанных раньше 2023 года, звучит тема искусственного интеллекта и сгенерированных им произведений искусства. В минувшем году многие бурно обсуждали, не оставят ли нейросети представителей творческих профессий без работы. Ваши герои находят довольно философский ответ на этот вопрос…
Е.С. – Да, я невольно попала в тренд. Но меня не очень сильно пугает развитие ИИ как возможность остаться без работы. На мог взгляд, представителей творческих профессий без стабильной занятости оставляют не нейросети, а общественные и политические процессы и отсутствие государственной системы работы с творческими людьми. Я не считаю, что надо возвращать ту структуру «писсоюзов», что была в СССР, да это и нереально. Однако вот стандарт профессии «писатель» очень бы хотела, чтобы разработали наконец…
С Еленой Сафроновой беседовала Мария Скуба












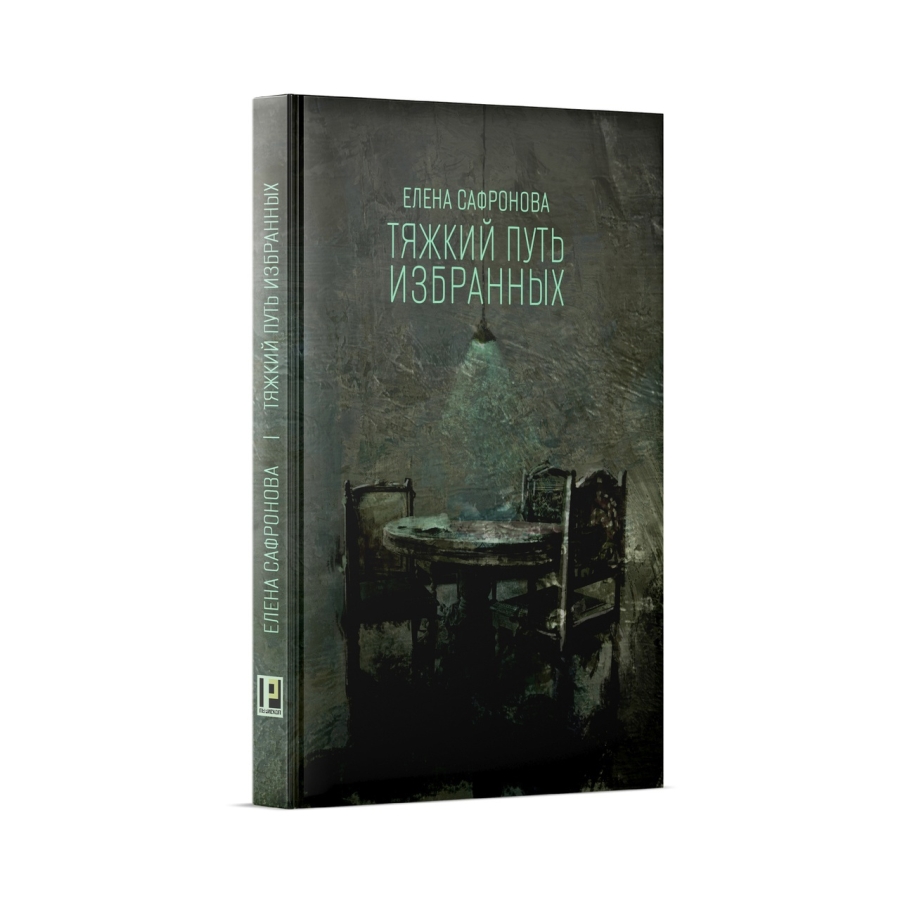



 Купить электронную копию газеты
Купить электронную копию газеты